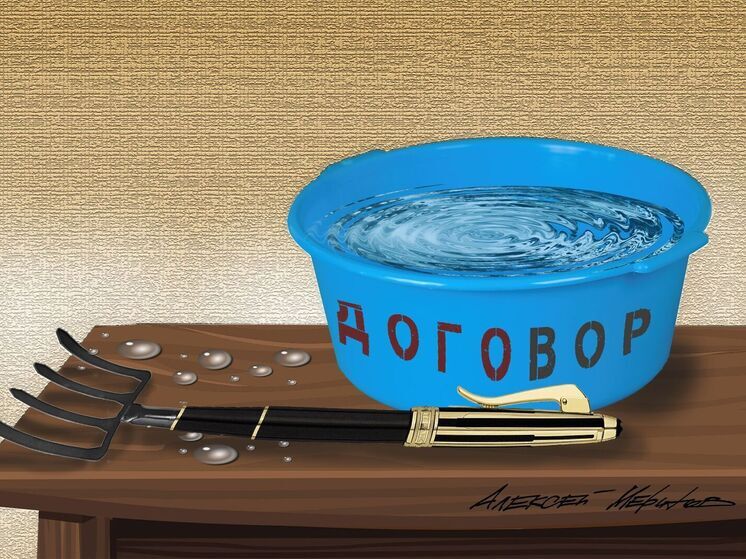Три эпатажных классика XX века – матерые сталкеры для таких запредельных путешествий. Эти ребята не корректные проводники, не страхующие инструкторы, они – настоящие Манила, Водила и Блазень языческих поверий, завлекающие своей игрой в самые дебри снов разума, на руины здравомыслия, в царство безграничной, немыслимой свободы. Стоит только чуть податься им навстречу, едва уступить их сокрушительному обаянию – и вот ты уже за чертой, за бортом, за пределами гравитации, в пучине умопомрачения. Какие там поджидают находки? Какие догадки и озарения? Самые непредсказуемые и у каждого свои. Если, конечно, не читать обширных искусствоведческих опусов, а попытаться довериться себе, прислушаться к необусловленным, спонтанным реакциям, к сигналам из солнечного сплетения.
Любовник галлюцинации
Правда, мне кажется, стоит поинтересоваться признаниями самих авторов. К примеру, «Тайной жизнью» Дали. Так, возможно, легче будет «подключиться» к его потрясающей «матрице», явившейся нам задолго до культового фильма. Сам невероятный Сальвадор говорил о скафандре, в котором он погружался на глубину подсознательного, называл свой разум паранойяльной бабочкой, парящей над «ужасно реальным» миром, а облюбованный сюрреализм провозгласил правом грезить. И уж исчерпал это священное право сполна. Ну, что можно сказать о создателе полотна «Дематериализация возле носа Нерона»? Манифестом этого любовника галлюцинации было отречение от обыденности, обиходности, от плоских житейских реалий и взаимодействий. Я подолгу стою под гипнозом его выставочных работ. Пространство между нами неслышно жужжит током высокого напряжения, наэлектризованный зной изливается за пределы бумаги, он инфицирует, окуривает меня. Но это не «запах безумия». Скорее, скользящие пары, которые дарят взору Пифии пророческие откровения. «Воображение и объекты будущего» — так названа серия мистических видений. Сегодня, в третьем тысячелетии, они не так уж сюрреалистичны: «Биологические сады», «Жидкая ванна с торнадо», «Жидкие и газообразные телевидения», «Таяние пространства-времени». Фрагменты техники и органики, макро- и микромира перетекают друг в друга, меняются свойствами, дают неожиданные метаморфозы и гибриды. Все текуче, вязко, тягуче, словно колеблющиеся пузыри, кажется, что мы наблюдаем или пробы воплощения того, чего еще нет, или судороги виртуализации того, что только что исчезло.
И вдруг вслед за этими порождениями красочного Соляриса – черно-белый портрет Лотрека. Почти шарж, в котором Сальвадору Дали удалось буквально «застукать» характер гуляки-плакатиста. Взгляните на шляпу этого завсегдатая «Мулен Руж», на эту забубенную шляпу – и вы увидите вихрь канкана, неостановимого, как юла. А графические лики Веласкеса, Сервантеса, Да Винчи — они просто приковывают и завораживают явственным, неоспоримым присутствием живой души!
Иероглифы в танце
Едва отдышавшись от инфернальных объятий Дали, попадаю в атаку мускулистого борея Матисса. Широкие, энергичные, могучие крылья ритмичных очертаний, обозначений, знаков реальности — вот его непобедимый почерк периода фовизма. Не пугайтесь механического скрипа термина. Это иронический эффект, скоморошество ярлыка. На самом деле за этой классификационной маской лукаво скрывается первобытный фавн, всесильный и безнаказанный в своем жизнелюбии, дикарстве, экстатичности. Космический кобальт группы работ «Обнаженная синяя», Blue Nude. Объем и сила преисполненной жизни плоти, ее наливные волны, ее красноречивые движения, которые даже не кажутся зафиксированными. Недаром Анри Матисс был увлеченным участником нескольких балетных проектов. «Из вековых лавин лазурного стекла, Из млечности снегов, и ночи звездно-лунной», как говорит любимый Матиссом Стефан Малларме, высечены эти женские архетипы, эти звенящие тени Венеры на белом листе пустоты. «Лавинами волос мое омыто тело», — возглашает юная Иродиада Малларме из лирического фрагмента поэта-романтика. Гуашь Матисса «Распущенные волосы» — полное освобождение от плоскостной и статичной природы рисунка. Причем без помощи глубины, перспективы, светотеней. Это невероятно, но женщина с лавинами волос у художника взмывает в безудержном полете. Здесь изображена не подробная нагота, а само состояние обнаженного восторга, не изгиб танца, а тот вакхический порыв, когда танцовщица сама превращается в танец – неистовый и неистощимый танец бытия. Это ключ, иероглиф того измерения, где нет никакого различия между танцующим, танцем и танцевальностью ликующего творения. Захватывает дух, уносит от опор, отнимает всякую мнимую устойчивость и заданность. А ведь это всего лишь цветная наклейка, как и знаменитая загадочная «Печаль короля», — вырезка из цветной бумаги, аппликация, «детский утренник». Утренник души, вернувшейся во младенческую невинность, совлекшей отягощения знаний, лет и докучных ограничений. Аллилуйя, Анри Матисс, за распущенные волосы, за освобожденные от спазма нервы, за расправленные крылья!
Благословляющие взоры
И наконец, Марк Шагал, родной, понятный, навсегда оставшийся пронзительно российским гением. Мы с ним – одной крови, одного дыхания. Мы – дети провинции, в чьих клетках закодированы собачьи перебрехи подворотен, скрип деревянных крылечек, горьковатый дымок над неровными крышами, пыльные черемухи старых дворов. Только Шагал мог с любовью и волшебным чувством гармонии на плафон Парижской оперы, рядом с воздушной Жизелью, с вагнеровскими Тристаном и Изольдой, пристроить трогательные виды своего ненаглядного Витебска – городка, где вырос и расслышал зовы парнасских сирен этот сын рыбного грузчика и внук кантора местной синагоги. Какими теплыми, сокровенными кажутся мне его мерцательные гравюры! Какими узнаваемыми я нахожу их человечные образы. Например, вот эта картина, где счастливый автор заключен в красный круг в обнимку с теленком. Да это же ни дать ни взять мальчик Мотл из повести еврейского классика Шолом Алейхема, известного нам по «Скрипачу на крыше»! «Я готов поспорить с вами на что угодно, что никто во всем мире не был так рад теплому, яркому предпасхальному дню, как мы, — я, Мотл, сын кантора Пейси, и соседский теленок по имени Мени (это я, Мотл, дал ему такое имя — Мени). Оба вместе почувствовали мы первые лучи весеннего солнца в первый теплый предпасхальный день, оба вместе ощутили мы запах первой зеленой травки, пробивающейся из обнаженной земли, и оба вместе мы выбрались из мрачной тесноты навстречу первому, сладостному, светлому, теплому весеннему утру». Проза Шолом Алейхема и образы Шагала – из одного корня, про одни и те же запахи и звуки, об одном и том же влюбленном отношении к далеко не всегда милосердной жизни. «Я, сын кантора Пейси, поднял обе руки, раскрыл рот и втянул в себя столько свежего воздуха, сколько мог, и показалось мне, что я расту и расту, что меня тянет все вверх и вверх, в синеву глубокого-глубокого небосвода, туда, где скользят редкие перистые облака, туда, где ныряют белые птицы, то показываясь, то исчезая, с чириканьем и писком». Вот откуда у Шагала эти летающие люди и даже коровы, дома и улицы на карусели дня и ночи, с их сочной и беспокойной пестротой. Вот откуда парящие скрипачи и флейтисты, мечтатели, забывающие про силу тяжести. Из Касриловки, населенной остроумными иудейскими чудаками, из дореволюционного Витебска, знавшего не в деньгах счастье, из одухотворенной, согретой мерцанием субботних свечей местечковой еврейской Вселенной. В ней даже Эйфелева башня, слегка подгуляв, танцует «Семь сорок», а по встрепанным деревам вдоль искрящейся Сены, словно дворовые петухи, расселись комичная зеленая химера и ошалевший художник с ручной синей птицей. Этот сказочный, насквозь поэтический мир Шагала неизменен везде: в богемной Европе, лихорадочной Америке, убогой гоголевской России. И век назад, и ныне, и присно. Посмотрите на «Клоуна с букетом» с физиономией грустного Аль Пачино. Взгляните на кучера, дающего лошадям поесть, — на эту безгрешную троицу с полными любви очами. Повсюду эти влажные, мягкие, благословляющие и очарованные взоры. Смотришь на них, и твой торопливый, рассеянный взор вдруг замирает и влажнеет, и обретает утерянную чистоту.
«Я полностью ушел в воображение!» — объявил один из трех сумасшедших, к чьим фантазиям сегодня в Иркутске может приникнуть любой из нас. Какой поистине царский произвол, какая непозволительная для нас роскошь! Мы не то что полностью уйти в воображение, мы на секундочку заглянуть туда не всегда вольны и способны. Железные когти логики, правил, порядка вещей и готовых определений крепко и безысходно держат нас за горло, мастерски дозируя дыхание, чтобы не допустить асфиксии, но и не дозволить кислородного отравления. Мы адаптированы к этому лимиту, необходимому и достаточному для функционального существования. Но если хочется все же взлететь, воспарить, сорваться с привязи, перепрыгнуть досадную ограду, чтобы, как в детстве — в самоволку, в приключение, в свободу без учета последствий — немедленно туда, в тихий музейный зал, где колдуют великие сумасброды, где мироздание ходит на голове, катается кубарем и гениально играет в «замри».