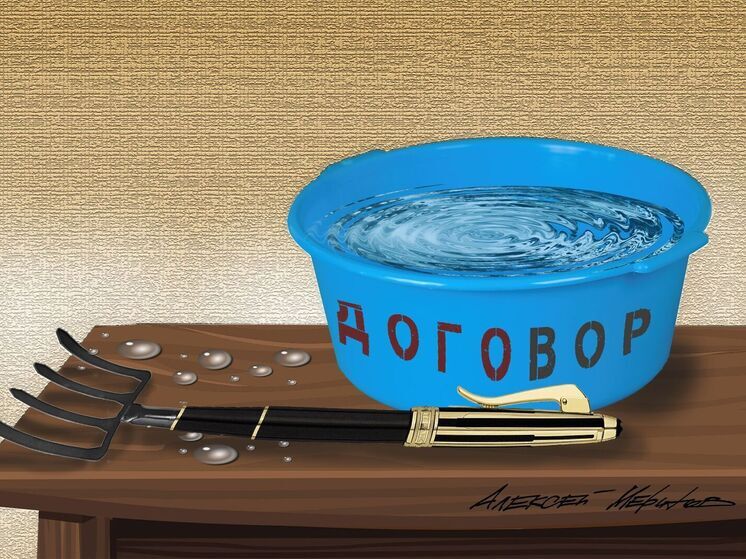Сегодня мы представляем московского поэта Геннадия Калашникова, который приедет в сентябре в Иркутск на презентацию премии. Геннадий Калашников – беспрецедентное имя в современной русской литературе, поэт, который раскрылся в зрелую пору. Но в конце концов, путь поэта – это долгий путь к собственному голосу.
– Геннадий Николаевич, давайте сразу начнем без предисловий: когда вы поняли, что вы – поэт? Сколько вам тогда было?
– Вот и скажу без предисловий, что до сих пор не чувствую себя поэтом. Да, стихи пишу, но поэтом сам себя назвать не могу. Время покажет. По-моему, сказать про себя «Я – поэт!» все равно что сказать «Я очень хороший человек!» Стихи я начал писать лет в 15–16, т. е. довольно поздно. Долго шел к себе, к своему голосу... Да и сейчас все еще иду.
Я был читающим ребенком. Но скорее вынужденно. Гаджетов и телевизора не было, кино в нашу деревню привозили раз в неделю. А вот библиотека была. И все мои сверстники были читателями. Порой за новой книгой образовывалась очередь, иногда дело доходило до драк.
А вот стихи я учил только те, которые задавали в школе. Стихов практически не читал. Порой читал «сюжетного» Некрасова, Маяковского, Есенина... Что-то слышал о Кольцове, Жуковском. О Жуковском слышал только потому, что он был ближайшим земляком. Село Мишенское, где он родился, находилось всего в восьми километрах от нашей деревни. Также недалеко находилась усадьба братьев Киреевских. Их фамилию я тоже слышал, но кто они такие, узнал гораздо позже.
– А кого из поэтов любили в юности? Кого любите сейчас? Как вы считаете, внутренняя эволюция поэта обязательно влечет за собой смену поэтических авторитетов?
– Трудно сказать, кого я любил в ранней юности. Читал Есенина, его стихи запоминались. У Маяковского сразу запомнил «В ушах оглохших пароходов горели серьги якорей...» или «...А вы ноктюрн сыграть могли бы на флейте водосточных труб?». Читал Блока, но так и не полюбил его. Пожалуй, самым сильным впечатлением был Пастернак. Вот им я «заболел», читал много и не отрываясь. Сначала мало что понимая, но тем не менее меня завораживал гуд его стихов, их захлеб, чудесная невнятица и тут же кристально-точные формулировки.
Потом я, конечно, наверстывал упущенное – читал поэзию, собирал поэтические сборники. У меня собрана почти полная авторитетная серия «Библиотеки поэта», а это десятки томов.
Разумеется, внутренняя эволюция поэта (его рост, по выражению Мандельштама, отрицавшего понятие прогресса в литературе) влечет за собой и переоценку ценностей, и смену авторитетов. Так я во многом пересмотрел свое отношение к тому же Пастернаку. Разумеется, он великий поэт, но сейчас я вижу его объективнее, что ли... И иные стороны его творчества меня уже не так захватывают, как в юности. Отдаю почтительную дань Гумилеву, Ахматовой, Цветаевой, Андрею Белому, но не могу сказать, что они мне близки. Гораздо ближе и интереснее Мандельштам, которого я сначала не принял, но потом «созрел» до абсолютного приятия. Люблю Иннокентия Анненского, Ходасевича, Георгия Иванова, Заболоцкого... Можно перечислять многих и многих, от признанных классиков до малоизвестных поэтов, которые так или иначе «цепляли» меня, чему-то учили, что-то показывали.
– На вас, ваше творчество повлияло место, где вы родились? Часто ли вы вспоминаете, пишете о своей малой родине?
– Мне повезло, можно сказать, что я родился в самой сердцевине русской литературы. Тульская область наряду с Орловской, Брянской, Калужской была genius loci – гением места – русской литературы. О Жуковском я уже говорил, он родился рядом с моей деревней. А сравнительно недалеко были Ясная Поляна Толстого, Спасское-Лутовиново Тургенева, Овстуг Тютчева, Степановка Фета, Орел Лескова, Красный Рог А. К. Толстого, места, связанные с Буниным, Пришвиным и еще многими другими писателями, не столь известными, но, несомненно, достойно входящими в русскую литературу. Так что влияние малой родины я ощущаю до сих пор. Практически каждый год езжу туда. К сожалению, я еще не отдал ей творческих долгов. Несколько стихотворений, так или иначе связанных с малой родиной, несколько рассказов. В прозе писать о детстве, о родных местах мне почему-то легче.
– У вас замечательные рассказы. Помню, с каким удовольствием читала маленький сборничек «Каво люблю…», где проза соседствует со стихами. А вообще, прозу писать легче? Очень многих поэтов «лета к суровой прозе клонят», так, что даже стихи отходят на второй план. Как вам кажется, это можно совместить?
– Действительно, клонят... Писать прозу так же трудно, как и стихи. Надо поймать интонацию, почувствовать тот неуловимый поворот, после которого текст становится живой картинкой, а не сухими словами. Конечно, стихи в это время не пишутся. Но они служат донором прозы, подспудно в ней присутствуют. То, что могло бы стать стихами, переходит в прозу, подсвечивает ее. Вот так они совмещаются. Возможно, есть другие способы совмещения, но я их не знаю.
– Сегодня появилось очень много литературных студий и школ. Как вы считаете, может ли студия воспитать автора? А перевоспитать? В чем их задача, по-вашему? Чем-то отличаются (если отличаются) современные литстудии от студий «старой советской школы»?
– Литературных студий в моей жизни было много, от вполне официальных, вроде студии при горкоме ВЛКСМ и Союзе писателей, до «диких», собиравшихся на квартирах, в каких-то клубах... Самой значимой для меня была студия, которую вел Борис Слуцкий. Пять лет (практически второй вуз окончил) я ходил на ее занятия. Я довольно подробно написал об этом в своем очерке «Педагог».
Не знаю, может ли студия воспитать автора. Но то, что общение с людьми, пишущими стихи, соперничество и дружба с ними имеют большое влияние на собственное творчество, это несомненно. Мне опять же везло, кроме Слуцкого я довольно близко общался с замечательными Евгением Винокуровым, Константином Ваншенкиным, Владимиром Соколовым... Со многими из моих товарищей по студиям и сейчас поддерживаю отношения. И хотя работа поэта дело одинокое, но общение необходимо. Надо знать, что делают собратья по цеху.
Я был свидетелем и ярких взлетов, и поэтических крушений в этих студиях. Писание стихов не такое уж безопасное занятие, каким может показаться. Многие просто не выдерживали, ломались – или приспосабливались к конъюнктуре.
Я порой веду мастер-классы, некоторое время вел и литстудии, так что могу сравнивать то, что было, и что происходит сейчас. Значительная часть моей, скажем так, литературной жизни пришлась на тот период, когда литература была «идеологическим оружием», прорваться сквозь препоны и преграды молодым было очень трудно. Редкая публикация в журнале была событием, а выход книжки – чистым, беспримесным счастьем. Так что мы писали бескорыстно, особо ни на что не надеясь. Сейчас подобных преград не существует. Порой на занятия приходят молодые люди с несколькими изданными книжками, увенчанные литературными дипломами. Такого обилия «медовых коврижек» – конкурсов, различных премий – в те времена попросту не существовало. Сейчас же, читая ту или иную подборку стихов или роман, отчетливо чувствуешь, под какую премию это сочинялось. Не знаю, хорошо это или плохо... Просто хотелось бы, чтобы бескорыстное, говоря пафосно, служение литературе, а не той или иной «коврижке», сохранялось.
– Как вы думаете, такое количество премий и фестивалей идет на пользу литературе или во вред? Есть во всем это рациональное зерно? И не забыли ли о читателе во время всей этой премиально-фестивальной суеты?
– Суета, борьба амбиций, состязание тщеславий – неизменные спутники литературного процесса во все времена. Ничего плохого в школах, резиденциях, фестивалях я не вижу. Это скорее хорошо, чем плохо. Могу только добавить, что суть настоящей литературы, ее существование не так уж и зависят от внешних обстоятельств. Талант берет себе то, что ему нужно, в любых обстоятельствах. «Литературной резиденцией» Варлама Шаламова был колымский лагерь, Мандельштама – воронежская ссылка и лагерь. Мы читаем «Колымские рассказы», «Воронежские тетради» и понимаем, что тут каждая строка оплачена по высшей ставке, что талант переработал и этот ужас в литературу. Буду рад, если прочту подобные произведения, написанные в нынешних литературных резиденциях. Допускаю, что это возможно.
– В последние годы кажется, что время как будто окончательно сорвалось с катушек. Мы летим в неизвестность, «без руля и без ветрил». Как по-вашему, что особенно важно для литературы сегодня? Она нам поможет?
– Да, ситуация сейчас очень сложная. Собственно, она никогда не была простой – и идеологический пресс советской власти, и последующая вольница, граничащая с анархией, и пара «серых» последних десятилетий. Я говорю о том, что наблюдал сам. Но сейчас все угрожающе накренилось, ориентиры сбились, критерии размыты... Поможет ли литература? Вопрос сложный. Литература скорее диагностирует, чем лечит. Она выживала вопреки всему и в худшие времена. И этим помогала людям. И в тюрьмах, и в окопах люди читали стихи, и они помогали им. Но чувствую, что такое понимание миссии литературы слишком упрощает ее, на самом деле все сложнее. Мне кажется, что само существование литературы сейчас под вопросом, как не выдержавшей тяжелейших испытаний институции. Да, «есть ценностей незыблемая шкала над скучными ошибками веков...», но сейчас и эти ценности пошатнулись, и ошибки веков угрюмы и угрожающи. Вспоминаю строфу Георгия Иванова из стихотворения о Пушкине:
И ничего не исправила,
Не помогла ничему,
Смутная, чудная музыка,
Слышная только ему.
Сможет ли нынешний творец воплотить эту музыку и дать услышать ее людям? Не знаю.
– Может быть, спасение – «жить в провинции, у моря»? Интересно, кстати, есть ли отличие поэзии столичной и поэзии провинциальной? Какое место занимает провинция в современной литературе?
– Наверное, есть, если смотреть в увеличительное стекло литературоведения. Но, на мой взгляд, поэзия – она и есть поэзия. Те же Борис Чичибабин, Алексей Решетов, Михаил Анищенко и целый ряд других поэтов жили в провинции и писали замечательные стихи.
Провинция в нынешней литературе занимает такое же место, как и всегда. Есть такое выражение: поэт – это человек, который рождается в провинции и умирает в Париже... Кажется, так сказал Мопассан. Разумеется, это естественный путь, его проделали ваши земляки-иркутяне Юрий Левитанский, Анатолий Преловский, Анатолий Кобенков.
Путь естественный, но не обязательный. И примеров тому множество. Главное – не увязнуть в провинциальных дрязгах, не окуклиться в узком провинциальном мирке. В этом смысле подобный провинциализм свойственен и столицам, где существуют всевозможные группы, группки, компании со своим лидером, своей иерархией, своими «альманахами-складчинами». И они вполне удовлетворены подобным кипением в собственном соку.
И еще: не могу не сказать, что по моим вполне себе несистематическим наблюдениям провинциальная литература больше подвержена веяниям литературной моды. Если уж верлибр, то на всю катушку, то же самое и с поэтическим эпатажем; если рэп, то ничего кроме. И эти шумные слэмы с преобладанием обсценной лексики. К счастью, у настоящих талантов это вроде ветрянки, быстро проходит.
– А вы знакомы с сибирскими авторами, читаете их стихи? Отличаются ли они от всех прочих? Можно ли говорить о какой-либо сибирской поэтической школе, возможно ли ее выделить? И надо ли это делать?
– К сожалению, не могу сказать, что я так уж начитан в сибирской поэзии. Знаю поэтов Красноярска, некоторых поэтов Новосибирска, знаю поэтов Иркутска. Но не настолько, чтобы ответственно и со знанием дела говорить об отпечатке «сибирскости» в их поэзии, о некоей поэтической сибирской школе. В принципе, нет ничего плохого, чтобы выделить, дать определение той или иной школе. По-моему, это удается делать в Перми, в Екатеринбурге, и это, наверно, помогает пишущим там. Но без некоторых натяжек тут не обойтись. Наша общая школа – русский язык. Трудно представить стихи, написанные на пермяцком или сибирском языке.
– Ну да, как в анекдоте: «Ты иркутянин? Скажи что-нибудь по-иркутски!». А много ли стихотворений, написанных вами, не проходит ваш собственный отбор и остается «в столе»? Вы возвращаетесь к старым стихам, чтобы их переписать, подправить? Вообще, вы любите свои старые стихи? Ахматова, например, морщилась, когда ей напоминали о ее юношеских удачах.
– Ох, как трудно говорить о «себе любимом»... Да, стихов, не прошедших отбор, хватает. Иногда в стихотворении недостает одного точного слова, и оно так и лежит, ждет его. К сожалению, некоторые мои опусы, которыми я недоволен, подверглись тиснению. К старым стихам практически не возвращаюсь и не правлю их. «Еже писах, писах».
– Вы столько лет пишете стихи, публикуетесь, выпускаете книги. А есть ли у вас нереализованные мечты? Планы, которые пока не осуществились?
– Да все мои мечты так и остались нереализованными! О, если бы вы знали, о чем я мечтал! Вообще, планы на третье тысячелетие и даже на двадцать первый век у меня весьма скромные. Написать бы еще хоть немного, и чтобы это было стоящее. Вот и все.
Справка «МК Байкал»
Геннадий Калашников – поэт, прозаик, переводчик, литературный редактор. Работал в «Литературной газете», «Литературной России», в издательствах «Современник», ЭКСМО. Член Союза писателей СССР с 1988 года, Союза российских писателей. Лауреат нескольких премий, в том числе премии «Московский счет» за лучшую книгу года. Живет в Москве.